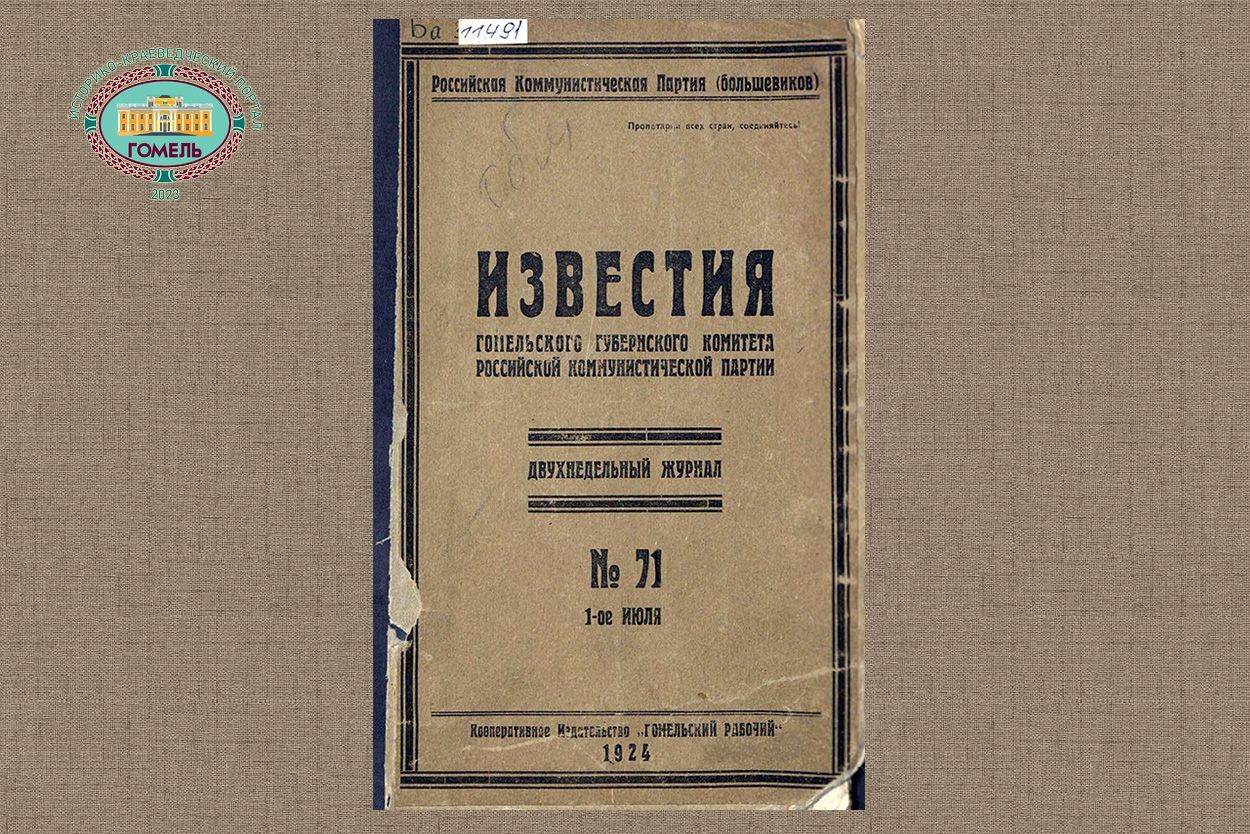Российская Коммунистическая Партия (большевиков)
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Известия Гомельского губернского комитета Российской коммунистической партии
Двухнедельный журнал
№№71
1-ое июля
Кооперативное издательство «Гомельский рабочий»
1924
Тип. «Полеспечать»

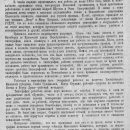
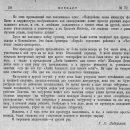
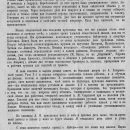



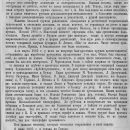
Из прошлого
(Воспоминания об участии в соц. дем. движении в 1900-1904 гг.)
1. В роли «околопартийного»
Уже в 1900-м году, когда я ещё только вышел из подмастерьев и стал самостоятельно работать, меня стали втягивать, как хорошо знакомого с рабочей средой, в революционную деятельность.
В эту пору рабочее движение в Гомеле развилось довольно широко, а местная организация «Бунд» стала сильной и крепкой.
Из руководителей революционной работой рабочих мне помнятся переплётчики Евель и Давид и интеллигенты — М. Каган (кличка «Виргилий»), Ш. Драбкин.
Скоро моя квартира стала использоваться для конспиративных целей (я жил тогда в доме закоренелых старобрядцев по Ветреной улице). Здесь у меня проводились читки газет «Искра» и «Ди арбайтер штимме». Помню, особенно сильное, возбуждающее впечатление производило на рабочих чтение «Искры». У меня же на квартире устраивались время от времени рабочие собрания и совещания центровиков, как мы называли, и вожаков партии.
В памяти особенно сохранилось одно такое собрание, в котором участвовало до 80 рабочих. По тем временам организация такого собрания была довольно трудным делом. Устройство его было поручено мне и ещё двум рабочим: Аксельроду, по прозвищу «полицмейстер» и Ш. Шеру.
Собрание должно было обсудить вопрос о праздновании 1 мая. Условились мы так: если Аксельрод увидит полицейских чинов, он сейчас же должен передать об этом мне. В свою очередь я должен буду запереть калитку двора и оповестить Шера, на обязанности которого лежало открыть задние ворота сада, выходившего в Кузнечный переулок. Таким образом, пока полиция войдёт во двор, все рабочие успеют разбежаться через сад.
Для пароля у каждого шедшего на собрание в руках был белый платок, а чтобы знали точно, в какой двор войти, я держал красный платок.
Собрание удалось провести вполне благополучно, хотя без испуга не обошлось: Аксельрод, стоя на посту, заметил идущего с двумя городовыми надзирателя 3-го участка Казанского, державших направление, как будто на Ветреную улицу. Сейчас же передав об этом мне, он стал советовать немедленно распустить собрание. Я, однако, решил подождать, зная, что 3-й участок полиции находится на Фельдмаршальской улице, и полагая, что полицейские идут туда. Так и оказалось. Казанский со свитой прошли мимо. После этого над Аксельродом долго посмеивались: «Вот тебе и полицмейстер, а испугался и дал промах».
Когда собрание закончилось, рабочие, вместо того, чтобы разойтись по одиночке, оказались не в силах противостоять соблазну и прошли гурьбой, чем навлекли на себя внимание хозяина, сделавшего мне выговор и, между прочим, заметившего, что ко мне слишком много людей ходит.
Несмотря на это, у меня всё-таки продолжали устраивать собрания, но уже не массовые, а групповые-центровиков.
2. Провал типографии Полесского комитета РСДРП в 1904 году
Членом партии я всё же ещё не состоял.
Когда началась послесъездовская дискуссия вокруг вопроса о расколе партии, о конфликте с «Бундом», проходившая в среде гомельских социал-демократов довольно ожесточённо, я, под влиянием дискуссии с, одной стороны, и профессионала Полесской организации Meера Егудкина, с братом которого мы занимали квартиру в одном дворе, с другой, вступил в РСДРП. Это было в конце 1904 года, а спустя самое короткое время, я уже принимал участие в партийной работе, выполняя довольно серьёзные конспиративные задания. Так, моя квартира служила нередко убежищем для нелегальных. Участвовал я и в одном из кружков Полесского комитета, руководителем которого, помнится, был некто Адольф. Как этот, так и другие кружки, обсуждая различные вопросы общеполитической жизни, занимались читкой и разбором различных организационных брошюр.
В таком порядке продолжалась моя работа до июля 1904 года, когда в Новозыбкове провалился склад литературы Полесской организации, и были арестованы работавшие в нём рабочие Андрей Шустов и Осип Скверчинский. В связи с этим провалом встал вопрос о спасении находившейся также в Новозыбкове типографии Полесского комитета, стоявшей под угрозой провала. И вот, однажды, приходят ко мне товарищ «Пётр» и Меер Егудкин, заявляющие от имени Полесского комитета РСДРП, что на меня возложена обязанность перевезти типографию и оборудовать её на своей квартире, которую предварительно следует переменить на более удобную в конспиративном и других отношениях.
Пришлось заняться подысканием квартиры. Скоро она была нанята в доме Итенберга по Кузнечной улице. Перебравшись, я оборудовал отдельную комнату для типографии, заняв смежную с ней комнату для работы по профессии. Вслед затем нужно было придумать меры предосторожности для предупреждения провала. С этой целью в комнате типографии был устроен звонок, приводившийся в действие дёрганием нитки, протянутой сквозь стену в мою комнату. Нитка эта для посетителей была совершенно незаметна, так как она была завешена, как это водится у сапожников, картонными выкройками. Таким образом, появление всякого незнакомого человека сейчас же делалось известным в типографии, рабочие которой должны были на время приостановить работу или производить её осторожно, ибо во время работы довольно шумно грохот типографский валик. Когда все эти приспособления закончились, типография была перевезена из Новозыбкова и по всем правилам конспиративности водворена в приготовленное помещение у меня на квартире.
Работали в типографии трое товарищей рабочих из местечка Звенигорода, Киевской губернии, Семён Суздальцев, Капул Егудкин, рабочий-шорник из местечка Ветки и Борух Дриц — рабочий металлист.
Типография работала около двух месяцев, до октября. В октябре, в один из праздничных дней «Кущей», часов в 5 вечера, когда я, пользуясь тем, что еврейские религиозные законы оговаривали возможность для нуждающихся работать в этот день, сидел за работой, оберегая типографию, дом был окружён солдатами во главе с старшим городовым Воробьёвым, почему-то не вошедшим в дом. Я тотчас-же дал знать соседям об угрожающей опасности, и работавшие в типографии бросилась бежать. Но было уже поздно. Солдаты выставили штыки и беглецам ничего больше не осталось, как вернуться обратно в свою комнату и оставаться там в ожидании нежданных гостей.
Интересно отметить, что всё произошло как раз в то время, когда в типографии печатался первый номер «Листка Полесского Комитета», который, за исключением нескольких экземпляров, целиком достался полиции в качестве одного из многих трофеев.
Через 10 минут в квартиру ворвались, в сопровождении нескольких жандармов, жандармский полковник Шебеко и Дружековский с револьверами в руках. Шебеко с неистовым криком ударил ногою в дверь типографии, проникнув в которую, скомандовал: «именем закона ни с места». Жандармы, по видимому, не ожидали такой огромной добычи и приступили к работе с торжествующим видом. Нас всех немедленно вывели из комнаты, поставив в зале под усиленным караулом. После этого началась работа охранников. Работа эта, нужно сказать, была довольно трудной, так как при типографии было большое количество разной литературы, особенно было много экземпляров выпущенных Полесским комитетом прокламаций.
Из этих прокламации мне запомнилась одна: «Надгробное слово министру фон Плеве и карикатура, изображавшая, как самодержавие давит прессом русский народ, выжимая деньги, и эти, в изобилии сыплющиеся с одного стола на другой, постепенно уменьшаются в количестве, а на Дальнем Востоке, где солдаты стоят с разинутыми ртами, получается кукиш».
Здесь же находился набор брошюр, которые были взяты полицией при провале склада в Новозыбкове. Это были брошюры: «Борьба городских рабочих» и «Чего хотят социал-демократы».
Вся процедура ареста продолжалась от 5-ти часов вечера до 2-х часов ночи, и участвовал в ней чуть ли не весь штат Гомельской охранки. В моей памяти запечатлелся интересный случай: при аресте типографии на столе были взяты два револьвера, а также и прокламации «Люби ближнего, как самого себя». Жандарм Демиденко взял в одну руку эту прокламацию, а в другую револьвер и, усмехаясь, заметил: «где же это тут «Люби ближнего, как самого себя?». Но один из товарищей ответил ему: «Вы для нас совсем не являетесь ближними».
Интересен и другой случай: у меня дома было устроено много тайников ещё в прежней квартире, предназначенных для хранения литературы, пока она не будет распределена по районным организациям. Во время ареста в зале стояла табуретка с таким тайником, в котором лежал мой револьвер и печать кассы помощи больным рабочим. Заметив, что табуретка может дать полиции явные улики против меня, как хозяина квартиры (на табуретке сидел жандарм Леонов) я дал жене «хозяйское» распоряжение, чтобы она попросила у жандарма табуретку и поставила на неё корзину, в которой лежал ребенок. Сообразив в чём дело, жена не преминула исполнить моё распоряжение, убрав из под жандарма табуретку.
Наконец, в 2 часа ночи вся процедура закончилась, и мы, в качестве арестованных, были отведены под усиленным конвоем в местную тюрьму.
О тюремном заключении — в другой раз.
Г.X. Либерман
Мои воспоминания
Нашему брату, не литератору, очень трудно писать о прошлом, тем более, что многое уже совершенно улетучилось из памяти, многое, под влиянием времени, изменило свой облик.
Мои первые революционные воспоминания относятся к тому времени, когда в Гомеле были произведены большие аресты. Кажется, это было зимой 1901-1902 г. Я ночевала у подруги, Коробочкиной (в своё время была революционная семья, кажется, никто из них не остался верен революции) и была свидетелем обыска у её старшей сестры. Через несколько дней моя подруга и я ходили по городу собирать деньги и тёплые вещи для большой группы арестованных, направляемых в ссылку. Говорили мы от имени красного креста. Для того же красного креста мы устраивали вечеринки и спектакли в чьей-либо частной квартире. Вход был платный, но по приглашениям.
Жизнь современной мне молодёжи проходила так, что мы уделяли очень мало внимания и времени учёбе, а главное время уделяли общественной жизни, как мы её тогда понимали. Мы организовали нелегальную ученическую библиотеку в квартире Цейтлина. Книги были все легальные, но самая организация дела требовала тайны. Вокруг библиотеки концентрировались кружки по изучению Писарева, Михайловского. Читали мы Лопперта, Энгельса. Книжка последнего «Положение рабочего класса в Англии» составила определённую эпоху в нашем развитии. Несколько старших знакомых, уже тогда активных революционеров (М. Каган, он же «Виргилий», Эфроим Ашпиз, Давид Аронсон), втягивали нас в общение с рабочими, водили на массовки (на Америку), давали для чтения нелегальные брошюры и, наконец, прикрепили нас к рабочим группам для занятий по грамоте.
Я вела занятия в заднем домике одного из больших дворов по б. Генеральской улице. Раза 3-4 в неделю собиралось несколько человек рабочих, и я обучала их письму, чтению и арифметике. В воспоминаниях встаёт маленькая комнатка, душно, окно плотно занавешено, чтоб никто не подглядел, кухонная лампочка коптит — мы обыкновенно скоро уставали и дольше 1-2 ч. занятия не продолжались. Временами после занятий начинались беседы, которые я проводила, без уверенности в том, что на все вопросы смогу ответить. Одновременно я занималась в воскресной школе для работниц, открытой покойной А.Я. Сыркиной при её женском училище. Занятия эти мне очень нравились; я преподавала русский язык, почти всегда избирая статьи, так или иначе касавшиеся положения рабочего класса у нас и на Западе. Начиналась оживлённая беседа, и между мной и ученицами устанавливалось взаимное понимание.
Но однажды А. Я. пригласила меня к себе и просила дать слово, что за время моей работы в школе у меня не будет обыска. Я отказалась дать слово и ушла из школы.
С этим моментом совпал приезд т. Либера — мы его знали под именем Марка или Андрея. В доме Коробочкиных он сделал доклад на какую то литературную тему, а затем на частном совещании убедил нас бросить занятия по грамоте и идти в настоящую революционную работу.
Весной 1903 г. мы начали готовиться к этой работе. У нас организовался кружок по изучению марксизма, которым руководил приехавший из Могилёва гимназист Сёма Бронштейн (теперь ушедший от меньшевизма, известный публицист Семковскнй). Мы не входили в партию, но посещали массовки, собрания. По моему адресу получаюсь письма для революционеров. У меня же в квартире была явка; часто ночевали проезжие товарищи: помню чувство удивления и зависти, с которым я смотрела на моих гостей, восхищаясь тайной, окружавшей их жизнь.
Был ещё кружок, которым руководили 2 бундовца: Зяма Рабинович и Илья Браудо. В этом кружке мы читали выходивший тогда за границей журнал «Заря», спорили о национальной культурной автономии и катались на лодках. Дело было летнее, молодое. Споры и разногласия не достигли ещё того момента, когда сожительство становится невозможным.
Наша группа преимущественно состояла из интеллигентов и передовых рабочих. Первые в большинстве своём ушли из революции после 1905-го года, о вторых нужно подробнее.
Их было четверо — таких, которые выделялись на Гомельском фоне. А чтоб выделиться здесь, нужно было кое-что иметь. В 1900-х годах Гомель был центром революционного брожения интеллигентской и пролетарской молодёжи. Рабочие в значительном числе были распропагандированы, сознательны (как классовый коллектив), посещали собрания и сходки, ежевечерне собирались на бирже. Всё это было, конечно, не особенно глубоко, и прочно, но обвеяно революционным энтузиазмом и предреволюционной романтикой.
А те четверо — они уже были пропагандистами, агитаторами, боевиками, вообще мастера на все руки.
Носон Роберман — рабочий столяр, туберкулезный, с нежной женственной душой. Не помню, какой именно работой он ведал, но, очевидно, ответственной, так как осенью его за счёт организации послали за границу лечиться. Там он также пользовался уважением и любовью товарищей, вошёл в группу РСДРП, вместо лечения, занялся изучением Плеханова, и оттуда поехал на нелегальную работу в центральную Россию. Ерах Левин (брат Ш. Левина) — мрачный, молчаливый человек, долго промучившийся на военной службе, чем дальше тем становился всё молчаливее и мрачнее — в 1914 г. покончил самоубийством.
Шмая Дранкин и Велька Баум были весёлые, разбитные ребята, всегда готовые на отчаянно дерзкую выходку и на весёлую пирушку. История, которая, кажется, закончила их революционную карьеру — экспроприация оружия против воли Комитета Бунда — гармонировала с их фигурами. Эти парни вносили в наш кружок элемент физической силы, крепости, бодрости, даже безрассудства. Летом 15-го года в толстом, «добропорядочном» обывателе в золотых очках я с трудом узнала Носона. Но тогда в 1903 году мы все были холостёжь и жили интенсивно и по-товарищески, проводя летние ночи на широкой глади Сожа, а днём глотая книжки. Двое друзей моих, Иосиф и Кива Равиковичи (первый из них теперь журналист, второй — купец), поехали на лето на станцию Василевичи, где у их родителей был лесопильный завод. Они начали вести агитацию среди заводских рабочих, распространяли прокламации, которые сами печатали и подписывали «с.-д. группа». Обо всём этом они, конечно, самым подробным образом писали мне, а я отвечала им не менее подробными указаниями. В результате, когда братья были арестованы, в Гомель прибыла телеграмма об обыске у меня, но она мена не застала, — я уже была за границей.
Для нас, только входивших в движение, это время было поистине утром революции. Мы приветствовали борьбу рабочего класса, так как ясно видели и понимали, что никакой другой класс не будет застрельщиком в этой борьбе и ни один не заинтересован в ней. Мы называли себя социал-демократами, но зная хорошо теории марксизма, увлечённые стройностью, последовательностью изложения Маркса его популяризаторами. Но в нас было ещё много идеализма, в некоторых звучали нотки национализма.
В Гомеле был тогда оформленный Комитет Бунда и отдельные социал-демократы, которые участвовали в его работе.
Сведения о расколе проникали в Гомель медленно: сначала в виде писем из-за границы, потом пришли официальные источники. Первое реагирование — было возмущение против государственного национализма «Искры». Рабочие группы Гомеля были очень недовольны расколом: плохо разбирались в сущности разногласий, знали, что все — честные социалисты, что в единении сила, считали все эти пункты интеллигентскими выдумками и роптали.
Только с прибытием официальных представителей «Искры» начал выясняться истинный смысл разногласий, и началось самоопределение.
Я приехала из-за границы в июле 1904 г., когда в Гомеле уже работал Полесский комитет, и самоопределение шло вперёд быстрыми шагами. Часто созывались собрания, на которых заслушивались доклады, выступали оппоненты. Тема — «Бунд и Искра». Местная Гомельская интеллигенция целиком осталась у Бунда. Среди рабочих наблюдалось брожение. Они всё ещё недовольны были расколом, но уже понимали необходимость занять определённую позицию. Докладчиками от Северо-Западного комитета Бунда выступали Либер, Виргилий, (говоривший на прекрасном еврейском языке), Столпнер — личность чрезвычайно интересная, сократовской наружности, большой эрудиции, ядовитейший и остроумнейший полемист (теперь редактирует книги по философии марксизма). Мы могли им противопоставить только т. Леву Полесского (М. Владимирова). Больше от нас, насколько мне помнится, никто не выступал. Состав Полесского Комитета: Владимиров, Лев Драгунский, Кибрик (Адольф), Матвей Кливанский (из Могилёва).
Тов. Лев Драгунский был старше и умнее всех нас. Но было в нём что-то, что мешало ему быть настоящим руководителем организации. Тяжёлые материальные лишения, необходимость из-за куска хлеба бросать любимую работу и заниматься уроками — вот что создало в нём надрыв, вызвало скептицизм и тяжёлое настроение. Но бывали дни, когда ему удавалось побороть своё настроение, и тогда мы чувствовали его недюжинный ум, его организаторские и пропагандистские способности. Матвей Кливанский, мы в шутку называли его «Магдалина», в нём было что-то доброе, ласковое, бабье; хороший марксист, постепеновец по натуре, он очень годился для медленной, углублённой, кропотливой работы. В 19-м году я его встретила беспартийным учителем.
Тов. Л. Владимиров (немножко неловко писать о живом Наркоме) тогда был молодой, энергичный человек, умеющий подчинять, несколько грубоватый, несмотря на общую культурность, с библиотекой хорошо подобранной марксистской литературы, которой мы все завидовали, но находились по отношению к ней на почтительном расстоянии. Квартира т. Владимирова по Аптечной улице была главным штабом, где мы все встречались, решали все дела, часто ночевали. Из этой квартиры по всему рабочему Гомелю разносились маленькие, чуть заметные искорки. Они своё дело сделали. Постепенно от твердынь Бунда откалывались одиночки, потом группки, и вокруг Полесского комитета группировались многочисленные сторонники из более передовых и более грамотных рабочих. Одновременно пришлось вести и борьбу с эсерами. Тут было гораздо проще; тут главные бои шли в области философского идеализма и аграрной программы. В этих вопросах т. Владимиров был неотразим.
Мы выпускали очень часто прокламации. Некоторые из них поручали и мне писать — к учащимся, к солдатам. Когда они бывали готовы, я развозила их в ручном чемоданчике в Новозыбков и Гомель.
В октябре 1904 г. я уехала из Гомеля и вернулась туда 14-16 января 1905 года. Гомель только заканчивал свой январский отклик. На стене возле завода Фрумина мне показали пятно: это брызнул мозг рабочего, убитого во время забастовки. Забастовка солидарности удалась полностью: магазины были закрыты, рабочие не явились. По городу разъезжали казачьи патрули. Целый ряд митингов следовали один за другим. На одном из них и мне пришлось выступить — мой первый доклад в жизни. Вся работа значительно оживилась. Печатная деятельность развивалась вовсю. Устраивались частые собрания за городом, причём патрулями для большей конспирации были учащиеся средних классов.
Если в период 1903-1904 г. злободневным был вопрос о взаимоотношениях Бунда и Искры, то в 1904-1905 г. центр тяжести перешёл к вопросу о большевиках и меньшевиках. Внутри комитета было также не особенно благополучно. Правда, т. Владимиров участвовал позже в III-м съезде партии (Константинов); правда и то, что единственным меньшевиком в Полесском комитете был, кажется, Кливанский, но даже все прочие, сочувствовавшие большевикам, были противниками раскола и долгое время представляли собой, по тогдашнему выражению, «болото». Это состояние, конечно, не могло не передаться рабочим, которые первое время были очень обозлены и не хотели и слушать о таких «глупостях». Но в то время Полесский комитет уже был пополнен новыми работниками, что, несомненно, способствовало его популярности и дало возможность широко поставить пропагандистскую и массовую работу: прибыли тт. В. Биск, М. Черномазов и Александр Экк.
Биск, кажется, пробыл недолго, и его помнят меньше всех: переводчик Каутского, долгое время проживший за границей, он больше был кабинетным работником, чем практиком.
Летом 1904 г. перед отъездом из Женевы я познакомилась с наборщиком из типографии Искры — Мироном Черномазовым и, будучи в Гомеле, содействовала его переезду сюда. Знала я его мало, главным образом, по письмам, которые были чрезвычайно интересны и даже талантливы. Через некоторое время по приезде я уже жалела о том, что вызвала его, а тов. Владимиров неоднократно упрекал меня за неудачную рекомендацию. Мирон был, несомненно, хороший работник, недурной докладчик, энергичный, настойчивый, со средней теоретической, подготовкой, но его болезненное самолюбие, часто ставившее и его и нас в глупое положение, мелочное честолюбие, желание всегда выставить себя на первое место, отсутствие простоты и товарищеского подхода делали совершенно невозможным и работу и общение с ним. В своих выступлениях он всегда подчёркивал моменты своей личной жизни, и так как эти моменты части слушателей были известны — это становилось ещё неприятнее. Описывая в нашей газете своё выступление на кладбище, он писал: «Голос оратора был звучен и далеко слышен. Прекрасная речь его произвела глубокое впечатление своей яркостью и образностью».
Он очень быстро добился нашего нерасположения, но никому, конечно, не пришло в голову, что в 1917 г. мы обнаружим в Мироне провокатора.
Те, которые думают, что фамилия Экк является псевдонимом, ошибаются. Тов. Александр Арнольдович Экк принадлежал к типу людей, к которым не бывает среднего отношения: его либо уважали, либо ненавидели. Обыкновенно начинали с восторга и преклонения и кончали ненавистью.
Тов. А. Экк был сыном Рижского булочника и швейки из Варшавы, но воспитание, полученное им в коллегии Галагана в Киеве, долгие годы жизни в Варшаве и манера одеваться делали его похожим на «разорившегося графа», как мы его в шутку называли. Отец его оставил семью, когда мальчику было три года, и он хорошо знал нужду и голод. Необыкновенные способности сказались в мальчике рано. Он делал хорошо всё, за что ни брался. Прекрасно играл с листа Бетховена, рисовал (в предвоенные годы его портреты были выставлены в Парижском салоне), писал газетно-литературным языком, его ораторские способности заслужили ему в 1905 г. в Москве славу второго оратора (это было в конце 1905 г. в августе). Педагог он был первоклассный — его ученики до сих пор вспоминают о нём; его педагогические таланты проявились и тогда, когда он стал пропагандистом.
Свою революционную деятельность т. А. Экк начал в Бунде, в Варшаве, будучи преподавателем казённой гимназии. Это не осталось незамеченным. Сначала его перевели в пограничный городок Сосновицы, оттуда выслали в Архангельскую губернию на три года. По окончании срока ссылки, он появился в Гомельской губернии.
9-е января 1905 г. т. Экк был в Петербурге, и у нас он выступал, как очевидец и участник событий. Он сделал доклад о 9-м января на собрании местной либеральной интеллигенции, где были произведены сборы денег в пользу Петербургских рабочих.
С такими же докладами, более подробными и более митингового характера, он выступал на собрании рабочих. Помню его выступление на митинге накануне 1 мая 1905 года. Митинг происходил в 12 часов ночи во рву на площадке; оратор стоял на возвышении, и его сильный, звучный голос ясно раздавался в ночной тишине. После речи вся толпа двинулась через Кузнечную в город, и в течение десяти минут будили уснувший город могучими звуками Варшавянки.
На ряду с большими достоинствами т. А. Экк обладал недостатками, неприятно поражавшими окружавших, дававшими пищу для сплетен и пересудов и создавшими вокруг него атмосферу недоверия и подозрительности. Бывали месяцы, когда его отстраняли от работы, затем он снова возвращался к ней. Теперь, когда годы смягчили остроту прошлого, нужно сказать, что т. А. Экк был одним из самых способных, но и самых типичных русских революционеров-интеллигентов: с большими задатками, с большим революционным энтузиазмом и романтикой, с душой авантюриста.
Наличие большой группы работников, обладавших и достаточной теоретической подготовкой и внешними данными, не могло, конечно, не отразиться на росте и силе организации. Мне трудно судить о других городах Полесья, но в Гомеле организация крепла. Весной 1905 г. Полесский комитет определил себя, как организация большевиков. Время дружбы с Бундом давно уже миновало, также и внутри начинали вырисовываться яснее суть и формы разногласий. Большую роль в самоопределении многих товарищей сыграла брошюра В. Ленина «Шаг за шагом». Число членов организации росло. Правда, в большинстве это была молодёжь.
4-го марта 1905 г. у меня на квартире был арестован кружок пропагандистов собравшийся для выработки программы празднования 1-го мая. Обыск был тщательный, но ничего не нашли. Забыли заглянуть в ящик моего письменного стола, где нашли бы кое-что интересное. У Черномазова были с собою патроны от браунинга он закопал их глубоко в цветочные вазоны. В кармане одного из товарищей нашёлся номер бундовского «Арбейтерштимме», и это дало довод жандармерии обвинить нас всех в принадлежности к Бунду. Были арестованы: М. Черномазов, Л. Драгунский, Лоптя Сморчков, Миша Цетлин, В. Биск, Дмитрий Дмитраш (кажется, все большевики] я, Р. Горкина, Л. Иткина и Б. Едидович. Продержали нас недолго: меня через две недели выпустили, и только Лоптя и Черномазов остались сидеть. По выходе из тюрьмы родители уговорили меня поехать в Белицу на дачу. Я сняла маленькую крестьянскую хатку, и она сделалась штабом Белицкой организации. Моими постоянными посетителями были: т.т. Володя Ромащенко (жел. дор. техник), Володя Белый (оттуда же), Александр Экк, Залман Гннзбурт (тогда рабочий, скрывавшийся после провала Новозыбковской типографии). По субботам и воскресеньям мы проводили собрания в Белицком лесу, все же будничные вечера я тайком от родителей проводила в Гомеле. Всё это лето у нас шла большая работа по печатанию. Тов. Экк связал нас с Ц. К. и привозил оттуда шрифт и заказы. Очень трудно было достать хозяйку для типографии. Я также была намечена к посылке туда, но не успела поехать, так как типография провалилась.
Вот главные моменты, которые несколько сохранились в моей памяти.
В июле 1905 г. я уехала из Гомеля.
Г. Серман
Редактор-Издатель: Гомельский Губком Р. К. П.